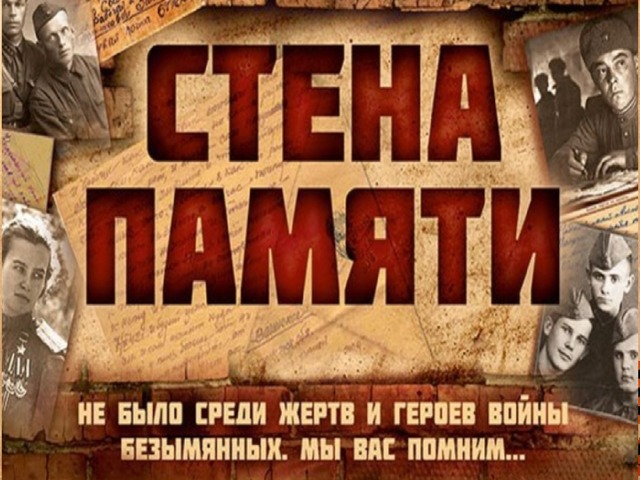Легенда о Бояриновом Камне
- Подробности
- Категория: Легенды и сказания
Легенда о том, как поцеловать Боярина.
Красивейшая река Уба берет начало в Корго́нских белках. Гордая и бурная, с быстрыми порогами и перекатами, наполненная холодной водой с тающих ледников, она становится теплой и смирной в среднем течении, радует людей и землю прозрачными волнами, а затем впадает в Иртыш.
Веками жители нашего края использовали природную силу течения реки для сплава древесных бревен. И сплавляли их не по одному-два, а тысячами. Скрепляли их специальными металлическими скобами (чеблака́ми) в большие плоты и артельной бригадой выходили на многодневный сплав. Тех, кто сплавлял плоты, называли плотого́нами. И легенда о том, что значит целовать Боярина, дошла до наших дней благодаря одному из шемонаихинских плотогонов - Ивану Дедову.
Жил на берегу Убы зажиточный крестьянин, и была у него фамилия то ли Бояринов, то ли Бояркин, но называли все его просто - Боярином. Заимка его стояла в месте не только красивейшем, но и очень удобном для ведения хозяйства. Богатый заливной луг, небольшая долина, закрытая от ветров скальным хребтом высотой в сотни метров, близко расположенные черноземные пахотные земли, да и до волостной управы в Шемона́ихе не слишком долго добираться верхом или на телеге. Многие завидовали Боярину, но он своим домом сидел крепко, и теснить его никто не пытался.
Река в этом месте распадалась на два рукава, и скала, стоящая заслоном вдоль берега, одним из своих краев заступала прямо в правый рукав, перегораживая его на десятки метров. И в это заслон и днем и ночью ударялось течение реки.
Плотогоны, приближаясь к этому месту, ставили ведущими самых опытных. Если вовремя повернуть в малый левый рукав, то плото́вый караван пройдет спокойно и безопасно, но если проспал или не справился с течением, то понесет в узкий правый рукав и всей силой плоты вобьются в скалу, загораживающую реку. Вот этот удар и называли: Боярина целовать, а скалу Бояринов камень.
При ударе в камень силой течения плоты разворачивало, складывало гармошкой, разбивало на отдельные бревна, поднимало вертикально. Случалось, и калечились плотого́ны, и гибли. Это была большая беда. Видя неизбежность столкновения, спрыгивали с плотов, выбирались из воды и шли берегом вниз.
Там, по течению, ниже Бояринова камня, находится тихая заводь, с низким удобным для спуска берегом. И все плоты: и целые, и поврежденные, и разбитые на бревна, доплывая туда останавливались. Это место было пло́тбищем (стоянкой). Там можно было собрать плоты заново, сделать привал перед следующим перегоном.
Место неподалеку от бывшего плотбища и по сей день называют Орловскими затонами. Уба там расплетает там свои голубые ленты на небольшие протоки. И во влажных ложбинах, среди высокой зеленой травы, согретые солнцем и напоенные родниковой водой, каплями огня горят жарки (цветы купальницы).
А судьба Боярина бесследно растаяла в тумане веков, да и целовать боярина на плотах теперь уже не ходят. Последние плоты прошли по Убе в 1989 году.